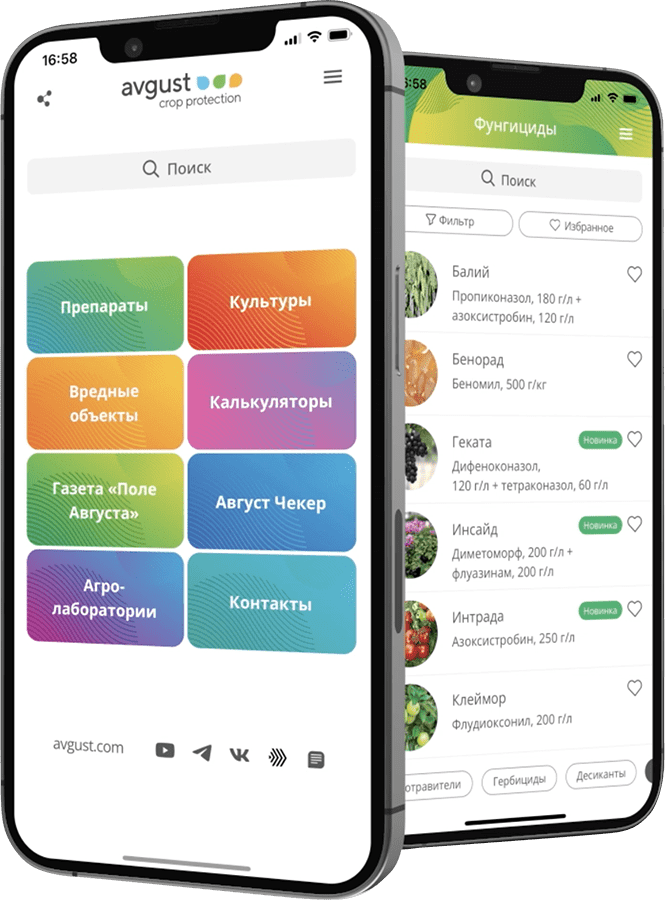No-till в Сибири – это реальность. Без него дальнейшее развитие невозможно

В этом уверен Арамаис БОЗОЯН, индивидуальный предприниматель из Омска. За десять лет с нуля он создал образцовое предприятие, объединившее сельхозпроизводство, переработку и реализацию готовой продукции. Сегодня он обеспечивает работой около 350 человек в двух подразделениях в Павлоградском и Русско-Полянском районах Омской области и на крупном мельничном производстве в городе Омске. В середине марта здесь запущена в эксплуатацию вторая очередь, что позволило вдвое увеличить годовую выработку муки высшего и первого сорта из собственного высококачественного зерна и довести ее до 30 тыс. т. В беседе принимал участие менеджер Омского представительства компании «Август» Владимир ГРИГОРЬЕВ.
Арамаис Эдвардович, откуда Вы родом?

Я родился в 1963 году в селе Шахназар Калининского района Армянской ССР. После школы поступил в строительный техникум, после его окончания работал, а в 1986 году приехал в Омск, поступил в автодорожный институт. Параллельно с учебой устроился на агрегатный завод. Днем работал, а вечерами учился. Тяжело, конечно, было, но специальность получил.
Когда в 1991 году пошла перестроечная волна, началось кооперативное движение, я занялся предпринимательской деятельностью. Первое время это было, конечно, «купи - продай», потом организовал швейное производство. К 1998 году расширил свое дело, мы отгружали на заводы спецодежду, а так как тогда процветал бартер, за нее с нами рассчитывались кто чем мог, в том числе и сельхозтехникой. Мы предлагали ее нашим крестьянам и получали за нее зерно. Его тоже надо было продавать. И в какой-то момент я подумал: а зачем его продавать, если можно переработать?

И в 1998 году я оформил валютный кредит, купил и установил первую мельницу. Тогда один доллар стоил 5 руб., а после августа 1998 года, когда рассчитывался, он стоил уже 26 руб. Ну, ничего, как бы сложно ни было, кредит погасил в 2000 году, и без единой просрочки. Объемы пошли, вторую мельницу поставил. А потом опять задумался: а зачем я зерно покупаю для мельницы, если его можно выращивать? В 2001 году взял первые 2 тыс. га земли в Павлоградском районе, а сегодня у нас уже 33 тыс.га.
И дальше все выстраивалось опять же по цепочке: зачем зерно сдавать на элеватор, если я сам могу построить складские помещения? Ну и построил, организовал отгрузку и все остальное. Так что склады у нас есть, техникой хозяйства укомплектованы полностью, в основной хорошей, импортной. В этом году мы опять расширились – удвоили производительность мельницы, в середине марта запустили реконструированную мельницу. Если раньше 2 тыс. т зерна в месяц перерабатывали, то сейчас выходим на 4 тыс. т.
Знаю, что у вас есть еще и животноводство.
Да, то, от чего все убегают. Но это больше, наверное, социальный, вопрос. Политика нашей страны и области как раз нацелена на то, чтобы сохранить поголовье и увеличить его. И это нам удалось – в прошлом году мы утроили поголовье дойных коров – было 170, сейчас более 600, а всего КРС около 1,5 тыс. голов. Началось все с того, что в 2006 году мы приобрели контрольный пакет акций ЗАО «Тихвинское», в который входили 23 тыс. га земли, производственные помещения, техника, коровы – все, что было. Ситуация складывалась сложно – надо было или увеличить поголовье, или продолжать убыточно работать. Поэтому мы построили новый современный коровник, провели модернизацию, приобрели дополнительно племенной скот. И сейчас получаем прибыль, сдаем молоко Любинскому молочно-консервному заводу по 15 руб/кг.
Как решились взять землю, Вы же автодорожник по образованию?
Да, но я – потомственный крестьянин, сын агронома, хотя, наверное, корни не в этом, потому что работу отца практически не знал – сначала учеба, потом в Омск уехал. Решился, потому что жизнь заставила. Но я не жалею! Когда взял первые 2 тыс. га, своей техники никакой не было, на пустом месте все организовывал, только к уборочной купил два комбайна – «Дон» и «Енисей». Заключил с хозяйством договор, по которому они засеяли свои площади, плюс мои 2 тыс. га. То есть это была совместная работа. На следующий год у меня уже была своя техника, через два года мы резко увеличили площадь до 8 тыс. га…
Первый год удачно сложился, коль подвиг на продолжение?
Нет, он был неудачным по урожаю, но важно было то, что мы обеспечили мельницу сырьем. И у нас всегда так – либо по переработке сезон нормальный, либо по сельхозпроизводству, либо по отгрузкам. Хорошо, когда сразу несколько направлений – в одном плохо, в другом компенсируется.
Каждый год покупали что-то из техники, набирали людей, зимой у нас работают человек 250, а в период сельхозработ еще 100 добавляется. Это очень напряженная, сложная работа. Иногда сам удивляюсь – как мы сумели? Конечно, 33 тыс. га – большой объем, наверное, немногие фермеры в России имеют такие площади. От одного поля до другого местами более 100 км.
И уверена, что вам досталась не лучшая земля…
Да, хорошие земли мы не получали. В основном брошенные, везде приходилось очень много работать, чтобы привести их в порядок, до ума довести. Вообще в 2001 году, когда я только начал работать в сельском хозяйстве, большая часть земель не обрабатывалась лет 10 - 15, потому что это было невыгодно. Я немного изучал этот вопрос и понял, что крестьянам тогда на самом деле было сложно работать.
Сегодня проще, потому что люди уже немного научились жить в рынке, сами отгружают продукцию. А тогда – ну откуда колхозник знал, кому продавать? Только перекупщикам. Поэтому в какой-то момент побросали земли, потом начали подбирать. Правда, в Омской области и сегодня в северных районах много пустующих земельных участков, а в южных районах, где я работаю, практически уже каждый квадратный метр земли кому-то принадлежит.
А по технике – с чего начинали и к чему пришли?
В основном все приобретали за кредитные деньги. С самого начала и до сегодняшнего дня берем кредиты. Без них развиваться невозможно, если нет собственных средств. Я, как уже говорил, в 2001 году купил два комбайна, на следующий год по лизингу еще три единицы, потом еще – и пошло. В итоге на сегодня у нас 20 комбайнов «Дон-1500Б» и два роторных комбайна «Джон Дир 9670», из остальной техники – шесть посевных комплексов «Джон Дир», самоходные опрыскиватели той же фирмы, самоходные жатки.
Хотя выбор сеялок для нулевой технологии достаточно большой, выбрали для себя дисковые сеялки «Джон Дир». Что такое No-till, мы более-менее знаем. Спасибо «Августу» за то, что мы увидели много полезного во время посещения Бразилии.
По-моему, и до поездки у Вас был интерес к этой технологии…
Да, и начали по ней работать, но там я еще больше убедился в том, что мы движемся в правильном направлении. Согласитесь, это тоже очень важно. Конечно же, сомнения были, в то время здесь это движение только - только начиналось. Мы выращиваем сельхозкультуры по No-till примерно на 20 тыс. га, а на остальной площади – по традиционной технологии. Есть техника для нее, которую надо использовать, и севооборот там отдельный, есть кормовые травы. Хотя и здесь используем новые подходы. Например, тот же сидеральный пар с посевом донника. В прошлом году он нас хорошо выручил – в условиях засухи мы полностью обеспечили животных кормами. Плюс еще и первоклассные семена донника получили – у нас на складе их хранится более 500 т.
В. Н. Григорьев: Участники семинара по демонстрации новой кормоуборочной техники, который проводила в хозяйстве компания «Джон Дир», были удивлены, какой стеной стоял донник при сильнейшей засухе, зрелище было впечатляющее!
А. Э. Бозоян: А если бы дожди еще прошли! Кстати, в том, что у нас был донник такой, есть заслуга и фирмы «Август». Потому что мы посеяли его под покров ячменя, обработали гербицидом Ластик экстра и получили очень чистые поля, как на картинке.
Арамаис Эдвардович, увеличивается ли при No-till количество сорняков, болезней и вредителей?
За время работы по нулевой технологии мы никаких особых вспышек болезней, распространения вредителей и сорняков не наблюдали, даже на тех полях, где по этой технологии работаем пять лет. Владимир Николаевич наши поля знает не хуже, чем я, каждый год объезжает, смотрит – никаких аномалий, по сравнению с традиционными технологиями, пока нет. Более того, 2010 год показал, что именно нулевая технология помогла нам получить урожай. Посудите сами – за вегетационный период выпало всего 20 мм осадков! Температуры были обычные для нашего резко континентального климата – за 30 - 35 ºС. И если в среднем мы на этих полях собрали 13 ц/га – это неплохо. Я считаю, что слой растительных остатков, пусть и небольшой, защитил в какой-то степени растения от засухи. Для сравнения, в 2009 благоприятном году мы получили по 24 ц/га пшеницы и по 33 ц/га ячменя.
Не раз я слышал о том, что солома будет мешать при севе, и сам опасался этого, но… ничего подобного нет. Весной можно увидеть на почве остатки соломы только двух последних лет, а все, что было до этого, разлагают микроорганизмы. А так как по урожайности зерновых мы сильно уступаем южным регионам России (и по количеству соломы тоже), то немного набирается на полях и растительных остатков. И на самом деле на сегодняшний день наша задача – накрыть поля растительным «одеялом», уменьшить зависимость от осадков.
Что, на Ваш взгляд, повлияет на распространение No-till в России, и в частности, в Сибири?
Во-первых, я не смог бы освоить такой объем площадей, если бы не перешел на нулевую технологию. На 5 тыс. га нам нужен один трактор с посевным комплексом «Джон Дир». При традиционной технологии даже четыре трактора не смогут освоить и половины этого объема – им ведь придется делать целый ряд различных операций. Поэтому те, у кого есть планы по увеличению площадей, должны подумать о No-till, без него не обойтись. А доказательство очень простое – все, у кого в области большие земельные площади, приобретают такую же технику, как у нас. И второе – не знаю, как на юге России, но в Сибири очень остро стоит вопрос кадров – трактористов, доярок. Молодежь уезжает в город. А при нулевой технологии количество занятых механизаторов сокращается в несколько раз. Конечно, для правительства такой подход непривычен: нас призывают занимать людей работой. Но их же просто нет на селе! В прошлом году я давал объявления в газетах даже в Казахстане, чтобы из северных областей пригласить людей на работу – вот насколько их не хватает! И на какую технику! На достойную зарплату.
У нас работает много приезжих из других районов Омской области специалистов, поэтому бывшую двухэтажную совхозную контору мы перестраиваем под семейное общежитие, здесь будет 15 двух- и трехкомнатных квартир с санузлом, центральным отоплением. В этом году планируем завершить строительство. Когда в прошлом году на совещании нас стали агитировать принять долевое участие в строительстве жилья для специалистов (70 % – бюджетные деньги, 30 % – хозяйство), я озвучил свою готовность построить на таких условиях 15 домов. 30 % – это немало, на постройку неплохого дома в деревне надо затратить около 1,5 млн руб., мне бы это обошлось в общей сложности в 7,5 млн руб. И я пошел бы на это, чтобы решить вопрос с кадрами, но… оказалось, что на всю область предполагается построить всего 7 домов!
Что выращиваете на 33 тыс. га?
Основная культура, естественно, пшеница. До прошлого года сеяли еще 4,5 тыс. га подсолнечника, но решили от него отказаться. Во-первых, после него очень засоренные поля из-за того, что защита от сорняков пока еще слабовата, а во-вторых, он очень сильно высасывает влагу из почвы. Так что мы делаем ставку на бобовые культуры. В 2010 году выращивали сою на 2,5 тыс. га, немного нута. Успехи пока небольшие, но, однозначно, будем развивать это направление. Ведь при No-till важную роль играет севооборот.
А вы и сою по этой технологии сеяли?
Нет, по пару, – не рискнули. Но в этом году хотим попробовать. В 2010 году мы получили хорошие всходы, а потом из-за сильной засухи с соей неудачно сложилось. Но отступать не собираемся, урожай, хоть и небольшой, все-таки собрали. Тем более на сою существует постоянный спрос, и цены на нее не скачут, стабильно стоит 15 - 17 руб/кг. Еще одно важное преимущество: сою можно выгодно продавать и осенью, а с реализацией пшеницы надо ждать до весны, когда цена вырастет. Значение имеет даже железнодорожный тариф. Когда мы отгружали в прошлом году пшеницу до Новороссийска, тариф составлял 2 тыс. руб/т – почти столько же, сколько мы получали за зерно – 2,5 тыс. руб/т. При отгрузке сои тариф составляет всего 15% от ее стоимости.
Так что соей, нутом можно и нужно заниматься. Единственное – влаги маловато. А вот что касается чистоты посевов, то Владимир Николаевич подтвердит – благодаря Трефлану, Фабиану сорняков на полях было немного.
Как давно Вы работаете с «Августом»?
С тех пор, как познакомился с В. Н. Григорьевым в 2006 году. Поначалу мы брали гербициды разных фирм, на складах было 15 - 20 наименований препаратов, четыре - пять только противозлаковых гербицидов, начали путаться, что с чем смешивать. Сложно, зачем это надо? Ну и я решил сделать свой выбор в пользу «Августа». Честно говоря, мне очень импонирует отношение к делу Владимира Николаевича – он не просто продает препараты, а дает практические рекомендации, вместе со мной выезжает на поля, хорошо их знает. Не каждый так может работать. И пестициды качественные, ну и что еще надо?
Так что уже два года исключительно берем «августовские» препараты на все наши позиции – все, что нужно для защиты зерновых: Виал ТрасТ, Бункер, Балерину, Ластик 100, Ластик экстра; Трефлан, Фабиан на сою; Миуру на подсолнечник. Тем более, «Август» каждый год предлагает что-то новое. В этом году, например, вместо Примы, которую успешно применяли лет пять, решили взять Балерину, против злаковых сорняков применяем Ластик 100, раньше брали Топик. Для нас было очень важным то, что компания пошла навстречу потребителям и существенно снизила цену на Торнадо. Дело в том, что препараты на основе глифосата у нас в области предлагали по очень низкой цене – 110 руб/л. И когда потребность в них велика, задумаешься, как быть и что покупать. Так что очень хорошо, что у нас появилась возможность приобрести 100 т Торнадо в начале года по приемлемой цене.
И что, все используете за сезон?
А как же! Мы применяем глифосаты и весной перед посевом, и для десикации зерновых перед уборкой, и на паровых участках. Вот уже два года, как мы научились использовать все возможности этого гербицида. Так как убедились, насколько важна десикация – и зерно подсушиваем, и всю «зелень» «сжигаем», сохраняя тем самым осеннюю влагу.
Так что Торнадо весь уйдет, да это немного на наши 33 тыс. га – всего лишь по 3 л/га. Но мы, честно говоря, не на всей площади его используем, в основном на тех полях, где у нас «ноль», там выходит около 5 л/га. Хотя, по-хорошему, на 1 га надо бы примерно 7 л – по 3 - 3,5 л на предпосевную обработку и столько же на десикацию. Но пока на тех полях, что почище, меньше вносим, где-то десикацию не успеваем сделать, потому и вышли на такой объем.
Каждый год по-разному бывает. В прошлом году из-за засухи осенью сорняков почти не было. А дождливой осенью 2009 года приходил на поле и видел – пшеница уже созревает, а вновь взошедшие сорняки как зеленый ковер, так что после десикации очень хороший был эффект.
В. Н. Григорьев: К тому же созревание пшеницы затянулось, надо было его ускорить и одновременно сорняки снять. Мы не раз убеждались в том, насколько этот прием эффективен: там, где проводили десикацию – чистое поле, весной можно не делать предпосевную обработку гербицидами.
А. Э. Бозоян: У нас в прошлом году получился очень наглядный пример. На одном из полей на одной части провели десикацию, а на другой – нет, и посеяли подсолнечник. Так вот, в первом случае он был таким, каким должен быть, то есть не только поле чистое от сорняков было, но еще и запасы влаги остались. А во втором – из-за засухи подсолнечник был высотой 60 - 70 см, да еще и очень изреженный.
Иногда весной мы глифосатами даже два раза работали. Потому что я очень боюсь затягивать этот процесс – пырей, молочай, осоты очень хорошо забирают из почвы влагу, настолько, что на месте этих уничтоженных сорняков остаются пятна – там все равно ничего не растет. Настолько они обезводили эти участки, да к тому же и токсины выделяют, подавляя культуру. Уничтожаем сорняки – да, чисто, но – пусто! Поэтому мы стараемся, как только сорняки появляются, пройти один раз глифосатом, а потом еще и перед посевом второй раз.
И это экономически оправдывается?
Конечно да. Объезжая поля ранней весной, когда там еще лужи стоят и нельзя начинать сев, мы находили пятна, где рос пырей, так там в почве уже были трещины. Представляете, что он делает! Так что десикация очень помогает вести нормальное земледелие.
В. Н. Григорьев: С тех пор, как Арамаис Эдвардович взял хозяйство, картина на полях сильно изменилась. На месте зарослей молочая лозного – сплошного моря сорняков – сейчас настолько чистые поля, что даже в условиях жесточайшей засухи удалось получить вполне достойный урожай. И работа по нулевой технологии тоже дает свои плоды.
И как вам удалось найти управу на молочай?
А. Э. Бозоян: Никаких секретов нет – применяй глифосат в нужной фазе, когда сорняк не выше 10 см. В первый год мы сработали против него с опозданием, вернее, это по сегодняшним меркам с опозданием, а тогда – в то же время, как и все остальные. Дали норму 3,5 л/га, препарат подействовал, но ненадолго, молочай отошел. Он не вырос высоким, но зацвел, обсеменился. Так что нужно против него работать как можно раньше.
А фунгициды, инсектициды применяете?
Когда в них есть необходимость, как это было в 2007, 2009 годах, когда для борьбы с септориозом и ржавчиной провели опрыскивание посевов Тилтом и получили хорошие результаты по сравнению с другими препаратами. В 2009 году и с вредителями пришлось бороться, применяли Брейк, Шарпей против лугового мотылька, который на корню все съедал.
В. Н. Григорьев: Благодаря «джондировским» самоходным опрыскивателям удалось даже подсолнечник от лугового мотылька сохранить. А вообще в Сибири вредителей хватает – блошки, пьявицы, трипсы, луговой мотылек, тля на горохе. В том же 2009 году мы его буквально спасли, если бы задержались с обработкой на два - три дня, гороха бы не было, как это случилось в других хозяйствах, где тля напрочь поразила посевы.
А протравители какие используете?
Бункер, Виал ТТ, а теперь и Виал ТрасТ. Этот двухкомпонентный препарат хорошо подавляет головневые болезни, септориоз и, что очень важно, корневые гнили, проблем нет.
Когда вы начинаете сеять?
У нас настолько сжатые сроки, что умничать не стоит. В Сибири на все природа дает нам 90 - 100 дней, не больше. И чтобы урожай не ушел под снег, стараемся посеять в оптимальные сроки, заканчиваем посевные работы в конце мая - первой декаде июня. И, кстати, посеять все наши площади не более чем за двадцать дней нам помогают…в том числе канадские загрузчики семян. Посевные комплексы «Джон Дир» достаточно высокие, и для их загрузки обычно изготавливают кустарно различные приспособления, а тут все продумано: транспортер очень мощный, шесть отдельных секций, в которых можно размещать удобрения и семена. Этот агрегат прицепной, мы его приспособили на «КамАЗ». «Джон Дир» засевает за сутки 250 га, одной заправки хватает на 40 га – это шесть заправок. И если раньше на каждую уходило 80 - 90 мин. (умножьте это на 6), то сейчас – 10 - 12 мин. Экономим почти треть суточного рабочего времени!
То же и с опрыскивателями. На заправку каждого уходило 40 - 50 мин., но мы и тут кое-что изменили, приспособив для этого бочки вместимостью 15 т для воды (внутри которых размещается небольшая емкость для препарата), бензонасос, прозрачные шланги и измерительную линейку, деления которой соответствуют определенному количеству препарата. Опрыскиватель «Джон Дир» с объемом бака 3000 л механизатор заправляет за 5 - 7 мин., а раньше на это уходило 30 мин. При суточной производительности 600 - 700 га и норме расхода 100 л/га экономим около 10 ч! Сейчас мы обрабатываем площадь почти вдвое больше, чем раньше. Время – это совсем не мелочь! Кстати, заправочные баки – моя идея.
Расскажите еще о ваших замечательных зернохранилищах.
Нам их поставила турецкая фирма. Надо отдать должное туркам – они делают очень качественные копии лучших технических решений. В чем преимущества наших бункеров? Вместимость – 5 тыс. т, наличие вентиляции для охлаждения зерна, датчиков температуры, подключенных к компьютеру, с помощью которых мы отслеживаем температуру, оперативно принимаем меры в случае каких-то отклонений. По стоимости бункеры обходятся не дороже, чем обычные напольные склады. Терминал на 5 тыс. т занимает круг диаметром 22 м, и для того чтобы разместить такое же количество зерна, потребуется два обычных склада размером 20 х 60 м, или 2 - 2,5 тыс. м². Я посчитал стоимость асфальта, который потребуется для их организации, так вот она приближается к стоимости всех наших бункеров, в которых можно хранить 40 тыс. т.
И обслуживание их, наверное, в разы дешевле?
Конечно! В зимний период из этих бункеров один человек загружает за полдня десять «КамАЗов», можно сказать, одним нажатием кнопки. А на складах напольного хранения со шнековой погрузкой бригада из 5 - 6 человек больше четырех «КамАЗов» еще не отгружала за световой день – не успевают. Небо и земля!
Арамаис Эдвардович, я смотрю, у Вас тут в кабинете настоящий командный пункт.
Да. Это с хозяйством связь, которое находится почти за 100 км отсюда. Специалисты там по рации между собой общаются, а я это слышу, потому в курсе того, что они там делают, и со мной связь постоянная. Очень удобно. Кроме того, у нас есть очень интересная программа отслеживания перемещения наших «КамАЗов».
С помощью спутниковой связи я знаю, кто и где находится, кто сколько солярки сливает, кто насколько заправился, сколько раз включается-выключается зажигание, кто сколько раз поднимает кузов – вся информация поступает сюда мне в компьютер, где хранится сколь угодно долго. Внедрение этой программы позволило ощутимо уменьшить затраты топлива.
А технику на полях также контролируете?
Нет, все посевные комплексы, опрыскиватели, жатки оборудованы так называемым «автотреком», трактор или опрыскиватель идет по полю как по линейке с помощью спутниковой навигации. По бесплатной программе навигации точность составляет порядка 70 см, а у нас платное обслуживание, индивидуальное на каждую машину, и это позволяет добиваться точности в 10 см.
В этом году у нас десятилетний юбилей, я с гордостью могу сказать, что мы добились всего, начав с нуля без какой-то либо административной поддержки или ресурса. И это не только моя заслуга, хотя роль личности в нашем деле гораздо более значима, чем в любом другом. Но, конечно же, один человек тут ничего не сделает, а вот коллектив на многое способен. Специалисты у нас в основном работают с момента создания, поддерживают стратегию развития.
Так сложилось, что мы не держим много народа на административной работе. В деревне организационно-информационные вопросы курирует бухгалтер Тамара Константиновна Дмитриенко. Сельхозпроизводство контролирует трудолюбивый человек, грамотный агроном – Андрей Львович Лебедев. Ну и не бывает практически дня, когда бы я не приезжал в хозяйство после того, как закончится рабочий день в Омске, на мельнице. Вот таким узким кругом мы и трудимся. Просто каждый делает хорошо свою работу.
Спасибо за беседу!
Удачи Вам в наступающем сезоне!
Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора
На снимках:
А. Э. Бозоян На «командном пункте» хозяйства (слева направо): А. Э. Базоян, А. Л. Лебедев, Т. К. Дмитриенко Вот в таких бункерах хранится зерно (справа – В. Григорьев)
Контактная информация: Арамаис Эдвардович Базоян Тел.: (3812) 55-44-59
Опубликовано в номере 4 за 2011 год
Перепечатка и копирование материалов на электронные ресурсы только с письменного разрешения редакции и с указанием первоисточника.